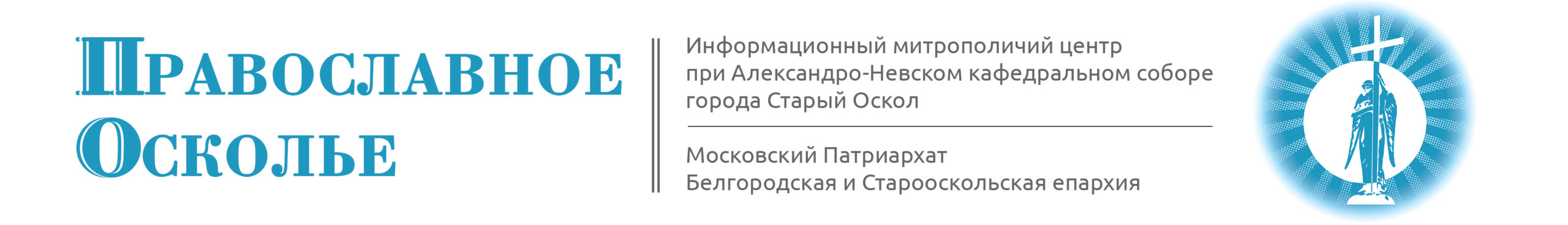Треть жизни протоиерея Владимира Отта прошла в Старом Осколе. А это более трех десятков лет. В октябре 1961 года он был назначен настоятелем Свято-Ильинского храма в Ездоцкой слободе. В мае 1984 года по состоянию здоровья был освобожден от этой должности и почислен за штат. Но и выйдя на заслуженный отдых, батюшка не покинул наши края. Он остался жить в церковной сторожке Ильинского храма. Участвовал по мере сил в церковной службе, без которой не мыслил своего существования. Принимал у себя в келье посетителей, приезжавших для духовных бесед с опытным священником из Губкина, Горшечного, Курска, Орла, Москвы…
Треть жизни протоиерея Владимира Отта прошла в Старом Осколе. А это более трех десятков лет. В октябре 1961 года он был назначен настоятелем Свято-Ильинского храма в Ездоцкой слободе. В мае 1984 года по состоянию здоровья был освобожден от этой должности и почислен за штат. Но и выйдя на заслуженный отдых, батюшка не покинул наши края. Он остался жить в церковной сторожке Ильинского храма. Участвовал по мере сил в церковной службе, без которой не мыслил своего существования. Принимал у себя в келье посетителей, приезжавших для духовных бесед с опытным священником из Губкина, Горшечного, Курска, Орла, Москвы…
28 июля 1992 года протоиерей Владимир Отт последний раз отметил день памяти своего небесного покровителя – святого равноапостольного князя Владимира. А сутки спустя, накануне своего 91-го дня рождения, завершил земной путь.
Из книги Владимира Отта «Сага о нашей семье»
«До 1925 года я почти не замечал как Нюру, так и Марусю. Знал, что какая-то девушка регентовала на правом клиросе, а другая, помоложе – на левом. Мне даже казалось, что ее зовут Валя. Наступил 1925 год. Приближался Великий Пост. Вечером под мясопустное воскресенье, что перед масленицей, во время всенощного бдения я стоял в алтаре около северных врат. Вдруг среди церковной службы раздался резкий ударный шум от падающих книг. Я оглянулся из алтаря на левый хор. То упали певческие книги, лежавшие на аналойчике. Но не это я увидел. Мой взор был прикован к девушке, стоявшей посреди хора. Ее задумчивый взор был устремлен как будто вдаль. На упавшие книги она не обратила никакого внимания. Она вся выражала собою чудный образ девушки во всей его чистоте, во всей его нежности, во всей его женственности… Я закрыл лицо руками и стоял несколько минут, пораженный красотою виденного. В тот же миг я почувствовал, что полюбил всей душой эту девушку. Впечатление было настолько сильно, чувство только родившейся любви было настолько глубоко, что я всю службу провел как во сне.
Всю наступившую масленичную неделю я ходил под впечатлением любимого образа. В ближайшие дни я старался осторожно, чрезвычайно осторожно, – чтобы не раскрыть и не задеть горевшего в душе священного огня любви, – расспросить, узнать, как же ее зовут, эту девушку – регента с левого клироса. И когда я узнал от нашего алтарного Николая, что зовут ее Анной и что она хорошая девушка, и что батюшка отец Алексий ее любил, – радость и спокойствие наполнили мою душу.
Как дорого мне вдруг показалось имя «Анна», это лучшее из имен женских, это воплощение благодати и всей девичьей красоты!.. Всю масленицу я промечтал о ней.
Нужно было бороться за чистоту своего чувства, одновременно и очищая и проверяя глубину и серьезность его. Моя мечта стала разрисовывать картины моего сближения с ней, а порою в эти дни я допускал чересчур горячащие мысли.
Желая прийти к нашему духовнику с проверенным чувством, чтобы сообщить ему о родившейся любви и предоставить на его благословение мысль о браке, я решил наложить на себя в течение наступающего Великого Поста испытание: за этот период – дней Четыредесятницы – не прикасаться мыслью к любимому предмету, не впускать в душу мыслей и чувств, наплывавших за последнюю неделю, и уж, конечно, не сметь в эти дни так или иначе выказать ей или кому бы то ни было охватившее меня чувство любви.
Наступило Прощеное Воскресенье. После поздней обедни многие из нас по обычаю поехали на кладбище, на могилку к батюшке отцу Алексию. Поехал и я. В вагоне трамвая я увидел мою любимую девушку – Анну… О, как она была хороша, проста, скромна! С такой хорошей улыбкой она уважительно и ласково поздоровалась со мной…
На могиле старца-батюшки я ему поведал о своем новом чувстве и просил направить пo-Божьему все дело, очистить, помочь, если воля Божия на это, обрести доброе и правильное чувство любви к Анне… На этом я должен был закончить на время все мысли, чувства и думы о ней и в строгом самоиспытании провести Великий Пост. Если родившееся во мне чувство любви искренно, глубоко и совпадает с волей Божией обо мне и о ней, то я решил на Пасху снять с себя взятый мною искус и объявить обо всем духовнику…
Наступила Пасха. Мое чувство к Анне нисколько не ослабело. Проведенные дни поста и борьба с самим собою только очистили и глубоко закрепили мою любовь к ней. Предстояло открыться духовнику, но почему-то все получалось, что ему было некогда, – несколько раз разговор откладывался. Наступило 3-е мая.
Я пошел к духовнику, который принял меня. Проходя в его квартиру мимо садика во дворе, я не заметил сидевшую в садике… Анну. В кабинетике духовника я рассказал ему о своем чувстве любви к Анне. Он внимательно выслушал меня и сказал: «Хорошо, твое чувство я одобряю. Я очень рад ему. Анну я очень люблю: она достойная девушка. Но мы не знаем, какое у нее отношение к тебе. Для того, чтобы у нее могло совершенно естественно и непринужденно вырасти чувство любви к тебе, если оно есть у нее, – я тебе даю такую заповедь: сейчас отнюдь и никоим образом не высказывай своего чувства Анне, не дай ей заметить его. Кстати, и сам еще раз проверишь свое собственное чувство к ней. А о вашем сближении я сам позабочусь и все устрою как нужно. Я постепенно вас буду знакомить друг с другом путем участия вас обоих в экскурсиях, поездках в деревню, посещении музеев и так далее, совместно с другими молодыми людьми и девушками».
 Своим воспоминаниям протоиерей Владимир Отт дал такое эпическое возвышенное название – «Сага о нашей семье». К семье он относился как к святыне и очень ею дорожил, хотя большую часть жизни по не зависящим от него причинам прожил вдали от родных. Вызывает сожаление, что книга воспоминаний батюшки издана была так давно (в 1993 году) и таким мизерным тиражом (500 экземпляров). Сейчас она является библиографической редкостью, ее не в каждой библиотеке отыщешь.
Своим воспоминаниям протоиерей Владимир Отт дал такое эпическое возвышенное название – «Сага о нашей семье». К семье он относился как к святыне и очень ею дорожил, хотя большую часть жизни по не зависящим от него причинам прожил вдали от родных. Вызывает сожаление, что книга воспоминаний батюшки издана была так давно (в 1993 году) и таким мизерным тиражом (500 экземпляров). Сейчас она является библиографической редкостью, ее не в каждой библиотеке отыщешь.
Едва ли отец Владимир надеялся когда-либо увидеть свою «Сагу» в печатном виде. Но не написать ее он не мог. Писал от избытка сердца. Не сообразуясь с веком сим. Называл вещи своими именами. Не сгущал краски. Не красовался. Не спекулировал злободневной темой. Не выставлял себя героем. В простоте сердечной вел беседу с невидимым собеседником. Временами кажется, что это исповедь. Временами, что поучение. Но поучение не через «чтение морали», а через конкретные жизненные примеры.
«Сага о нашей семье» – не просто мемуары, это своеобразный учебник по истории Церкви XX века. Для юного, еще не принявшего православия, Володи семья была как Церковь. Для прошедшего путь исповедничества священника Владимира Церковь стала семьей, в которой все мы – братья и сестры во Христе. Поэтому книга воспоминаний батюшки – это еще и проповедь о Христе. А еще ее можно считать практическим руководством для желающих жить по-христиански – в любви к Богу и ближнему.
Священник Владимир РУСИН
Из книги Владимира Отта «Сага о нашей семье»
«Осчастливленный сочувственным отношением духовника к моей любви, я принял заповедь как ниспосланную свыше и твердо решил свято и нерушимо исполнить его слово. Теперь я только жил и дышал ожиданием того дня, когда нам предстояло быть вместе с Нюрой в какой-нибудь экскурсии. В храме, встречая ее, я отводил глаза, как будто не особенно интересуясь ею, проходил мимо, и только сердце в груди стучало сильнее… Потекли дни за днями, полные великого нарастающего чудного, святого чувства большой любви к Анне. Никогда раньше я не знал такого ясного, физически ощутимого, реального горения пламени любви в сердце. Это был приятный, теплый, не жгучий, но сладостно щемящий сердце огонь. Любовь моя, поставленная под контроль моей воли, очищаемая борьбою со своим желанием открыться Анне, заговорить с нею, возрастала в условиях благодатного уединения в глубине моего сердца, ограждаемая заповедью духовника, взлелеянная как нечто великое и чистое. Везде и всюду, где что-нибудь напоминало Анну, ее лицо, какую-нибудь черту ее, ее голос, ее имя, – я весь возгорался, весь становился вниманием, впитывал в себя чувства, впечатления, образ, всматривался, проверял и наслаждался. Путем повторных многократных сопоставлений, проверок, обдумывания я все проверял, все убеждался в правильности своего выбора, в достоинстве предмета своей любви. Стоя сзади в храме во время регентования Нюры, я украдкой всматривался в лицо любимой Анны, следил за ее движениями, голосом, за тем, как она регентует. Я старался услышать, как она разговаривает со своими подругами, как она относится к старшим… Заповедь духовного отца я не нарушал ни одним словом, ни одним взглядом, который она могла бы заметить. И как удивительно, какая интуиция! Я упоминал, что Анна сидела в садике, когда я шел в квартиру духовника 3-го мая. После, через несколько лет, она мне призналась, что в тот момент почувствовала, что я шел к отцу, чтобы говорить о ней…
Другой памятный для меня день – 25 сентября 1925 года, день моего посвящения в чтецы. Нас было трое посвящаемых епископом Германом Волоколамским. За день до этого я ездил к Местоблюстителю Патриаршему митрополиту Петру с прошением нашего настоятеля о посвящении нас в чтецы. Несколько неожиданно отнесся к этому митрополит. Он высказал мнение, что следует сначала жениться и что сейчас посвящение необязательно, и что можно так прислуживать в храме. Впрочем, он не хочет препятствовать, пусть будет так, если мы этого хотим. «Бог благословит» – была его надпись на прошении. Вышедши от него, я поехал на могилу покойного Патриарха Тихона, – принять его благословение на предстоящее посвящение в стихарь.
«Святейший относился совсем иначе», – сказал мне духовник на мой рассказ о том, как я был у митрополита и что он сказал.
После литургии, во время которой епископ нас посвятил, нас пригласили к чаю на квартиру к духовнику. И вот там я увидел Анну. Я был счастлив, что в такой день Анна сидела за одним столом со мной…
Так прошло два года. Два года вынашивания моей любви к Анне в сердце, ни одним словом или движением не выдавая ее ни ей, ни кому-либо из посторонних. Только духовнику я изливал свое чувство. Он подкреплял меня, ободрял, но открывать свою тайну не разрешал, говоря, что ей еще рано…
В это время происходило то, о чем я не подозревал. Решалась судьба Анны, судьба моего счастья. Одновременно со мною любил Анну другой человек, которого я тогда не знал, П.И. Он также просил у духовника руки Анны. Вопрос был перенесен на разрешение старца Оптинского отца Нектария, к которому Анна ездила в сопровождении духовника. Однако отец Нектарий сказал Анне: «У тебя будет другая фигура». Таким образом вопрос решился в мою пользу.
Между прочим, в беседе с Нюрою отец Нектарий говорил ей о трех путях, по которым может идти женщина: путь монашества, путь общественной деятельности и путь брака, материнства.
Наступила весна 1927 года. Духовник решил, наконец, что пора устроить жизнь Анны, что пришло время испытать ее отношение к тому, кто ее так любил, так ждал несколько лет…
Первая экскурсия была назначена на одно из воскресений, но она не состоялась. На следующее воскресенье была назначена поездка в Коломенское. Все собрались. Нюра мне показалась в этот день исключительно изящной. В этот день она явилась мне с другой, новой стороны. В храме я видел в ней простую девушку, певчую. Здесь она показала себя высоко развитой, умной и изящной барышней, не лишенной невинного задора и веселости. Она была одета в зеленую шелковую блузку, черную недлинную юбку; хорошие, кофейного цвета чулки облегали ее ноги, обутые в туфельки. Реагируя быстро, сообразительно и остроумно на все задаваемые молодыми людьми вопросы, загадки, анекдоты, она была веселой и приятной собеседницей, оставлявшей позади себя многих своих подруг…
Памятен мне этот день 27-го июня /10 июля/.
Как грустно для меня прошла следующая экскурсия во Влахернский монастырь, на которую Анна не поехала… Я чувствовал себя потерянным, все казалось осиротевшим. Тем не менее я не терял присутствия духа и поддерживал веселье, игры, разговоры. В более тесном обществе мы ездили в начале августа на дачу по Рязано-Уральской железной дороге. Помню, как она ожидала нас вместе со своей подругой на ступенях у входа в вокзал. Тут она была вся белая, летняя, в белом платьице, белых носочках, белой шапочке.
В следующее воскресенье мы поехали в Аносину пустынь. Это была первая поездка туда, вторая, еще более замечательная и зафиксированная фотоснимками, состоялась уже зимой, так же, как и третья, тоже зимой, в феврале. Эти две зимние поездки были, правда, замечательные. Мы ездили с ночевой в номере монастырской гостиницы. Днем прогулка по чистой зимней природе, местами по глубокому снегу, с соответствующими «зимними» играми в снежки, валяньем друг друга в снег, а вечером стояние за вечерним богослужением в монастырском храме. Какое благодатное воздействие уставной монастырской службы с канонаршением, длинными кафизмами псалмов и прочим.
Если в начале поездки имели более общий по составу участников характер, то постепенно круг участников становился теснее, с Нюрой все чаще стала бывать одна девушка – Аля. Самые встречи часто устраивались для посещения музеев, для прогулок внутри города, наконец стали собираться на музыкальные вечера, чтения. Зимой мы разучивали песни под аккомпанемент рояля, тогда за рояль садился я, а вокруг становились участники маленького импровизированного хора. Выбирал и народные песни, а также песни духовного содержания, вроде:
«Льется звучными струями
Звон колоколов,
И народ валит толпами
В храм со всех концов».
Достали откуда-то католическое музыкальное воспроизведение молитвы «Отче наш» – «Pater noster».
Эти ноты я аккуратно переписал для разных голосов, и чистый экземпляр поднес Анне с полутаинственной надписью: «Amico meo dilecto hoc exemplar dimitlo» («Моему избранному другу этот экземпляр посвящаю»). Значения ее я не объяснил, и пришлось Анне взять ноты домой и совместно с подругой с помощью словаря и разных догадок расшифровать.
В этот период в наших вечерах принимал участие один молодой человек – пианист и музыкант. Один из вечеров был посвящен дивному произведению – опере «Сказание о граде Китеже», которую нам исполнил на рояле наш пианист с соответствующими пояснениями и прочтением текста.
В другом кругу мы пели русские удалые песни и шуточные песенки. Душою этого круга был наш милый друг и товарищ Володя Чертков, сын священника церкви в Котельниках. Благодаря его инициативе Котельники сделались как бы филиалом нашего храма Никола-Кленики. Своим духовным устремлением и кипучей деятельностью он увлек и своего отца – отца Николая. В их доме собирались многие интересовавшиеся духовными вопросами, устраивались лекции, занятия, спевки. Володя замечательно совмещал православно-церковную духовность с искренней широкой веселостью, общительностью, глубокими научными и философскими интересами. Вокруг него сгруппировались многие искатели духовной красоты, многие девушки считали его своим руководителем. Бывали и мы с Нюрой на его вечерах, принимали и участие в поездках к нему на дачу. Будучи сам одарен и умом, и музыкальным слухом, он увлекался особенно теми русскими песнями, в которых выражалась как бы вся душа русского народа. «Песни русские святые, не немецкие», помнится мне его голос, сопровождаемый роялем и голосами девушек, среди которых была и Нюра.
Велики заслуги Володи Черткова перед Церковью! И много бы больше он мог сделать еще, но Бог судил иначе.

Как ни трудно смириться с этой мыслью, как ни протестует наше сознание, но приходится принять за должное промыслительное определение Божие. Через несколько лет, во время моего пребывания уже вне Москвы в г. Каргополе, я получил ошеломляющее известие: Володя утонул в Москве-реке во время купания. Имя и память о чтеце Владимире хранят и поныне многие.
Хотя я продолжал, согласно заповеди духовника, хранить в тайне чувство моей любви к Нюре, однако естественно и постепенно в ходе знакомства, сближения – мы с нею более, чем с другими, становились ближе друг к другу, и она заметно шла навстречу моему тяготению к ней. Образовалось нечто вроде невысказанной, еще несколько робкой, но все же ощутимой как нами самими, так и другими членами нашего кружка связи друг с другом, и это именно было то ценное, к чему трепетно стремилась душа моя, за что я боролся всеми фибрами души. С какой радостью ловил я каждую ее ласковую улыбку, выказанное так или иначе внимание ко мне или предпочтение перед другими участниками наших вечеров. Зато с какой болью я встречал какое-нибудь замечание, в котором я ловил ту или другую симпатию, проявленную Нюрой к другому из молодых людей. Воображение порою строило картины какой-то на самом деле несуществовавшей связи с кем-либо из молодых людей; сердце испытывало муки ревности, когда я видел, как она поет или занимается с кем-либо другим. Конечно, на самом деле все это было совершенно невинным с ее стороны, совершенно естественным обращением со всеми, но мною придавалось этому особое значение, мое сердце томилось, когда она не со мною была.
Раз как-то, дело было в феврале 1928 года, возникла для меня опасность, что я буду вынужден удалиться из Москвы и, быть может, на многие годы. И вот тут-то я болезненно воспринял ее, как мне казалось, спокойное к этому отношение, как будто безразличное. То, что казалось таким страшным, невыносимым – разлука друг с другом, может быть, навсегда, – то ее как будто нисколько не печалило. К этому времени мы настолько уже сблизились, наши отношения становились заметными уже и для посторонних, – и я никак не мог принять спокойно такое ее безразличие к близкой разлуке. Очевидно, я дал понять Нюре, что я требую другого, более горячего участия в моей судьбе. Во всяком случае, между нами вдруг произошла какая-то размолвка, от которой, правда, страдал не только я, но и она сама. Почти что месяц так мы томились оба, как наконец я решился пойти к ней и поговорить с ней, признавая возможную вину с моей стороны и прося простить меня и понять мое теплое к ней чувство. Ей только и нужно было найти выход из истомившего ее самое состояния, и она с радостью откликнулась теплым чувством. Преграда, разделявшая нас эти несколько недель, разрушилась, и мостик между нашими сердцами был восстановлен. И какое счастье, что это случилось именно в этот самый вечер! На следующий день я был разлучен с ней и со всеми, – меня заподозрили в участии в каком-то мистическом кружке одного моего старого товарища по школе, и целых три месяца я прожил в изоляции. Вот тут-то и сказалось выросшее в сердце Анны чувство любви ко мне: когда она узнала о моей участи, она приходила на мою квартиру и совместно с соседками моими по комнате украшала столик рядом с моей кроватью и образа цветами, а когда мне делали передачу, она вложила туда гостинцев от себя, причем таких, какие должны были намекнуть и напомнить мне о ней. Я лично, будучи разобщен с нею и со всеми, однако, испытывал сладостное чувство спокойствия и вернувшейся надежды на возможное счастье. Я усиленно занялся изучением древнееврейского языка и грамматики, что мне доставляло глубокое удовлетворение, и за 80 дней своей изоляции я основательно познакомился с этим языком. Когда дело выяснилось и подозрения рассеялись, я получил возможность вернуться к себе домой, и тут – какова была радость встречи! В тот же день мы с Анной и Алей поехали на дачу к родственникам последней, – был июнь месяц, – и мы все были чрезвычайно веселы и счастливы, много шутили, и я цитировал фразы из древнееврейского текста. С тех пор наше сближение с Нюрой стало крепнуть, взаимная любовь уже не скрывалась ни между нами самими, ни перед другими, и я должен с благодарностью вспомнить о той симпатии, о том теплом участии, которое принимали все окружающие нас с Анной. Наступили светлые, радостные дни нарастающей и нескрываемой любви друг к другу.
Отец Владимир Отт. «Сага о нашей семье»