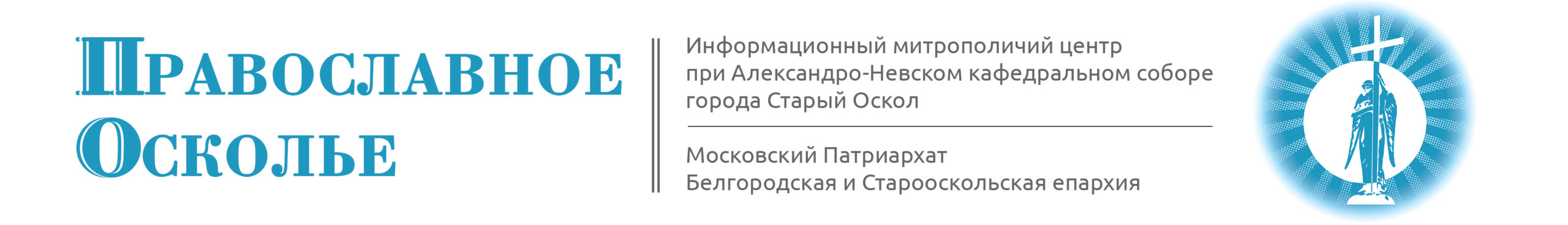Жил-был дед
Жили-были в одной деревне дед и баба. И все было у них как у людей – дом, огород, хозяйство, дети, внуки. Да только всего было несметное множество, земли с гектар, все засажено, каждый клочок, каждый участочек, во дворе кудахтали куры с цыплятами, крякали утки с утятами, хрюкали поросята, бекали и мекали овцы с ягнятами.
Да и внуков было много – шестеро, но они жили со своими родителями в городах и приезжали погостить на праздники да на лето. Можно было подумать, что такое огромное хозяйство держится для того, чтобы внуков да детей кормить. Но нет, те давно уже были самостоятельными. Тяжело было справляться с такими объемами земли да с таким поголовьем скота, но дед и слушать не хотел никаких доводов, ни от чего отказываться не желал, да еще и высматривал, где бы что дополнительно прихватить. Бабе было тяжко с утра до вечера то на огороде, то со скотиной, только три козы сколько сил отнимали, приведи, отведи, напои, подои. Баба охала, но терпела. И хоть старалась как могла, все деду было не так. Когда приезжали их две дочери, тоже пытались внести свою лепту, помочь и в огороде, и в ремонте дома по мере сил, но и они деду, своему отцу, не могли угодить. Все время он был недоволен.
Люди в деревне деда Афанасия явно недолюбливали, но в то же время уважали, так как когда-то он занимал высокую должность в сельской управе и неплохо справлялся с решением житейских вопросов. Ребятишки попросту боялись деда Афоньку, и тому были основания. Залетит к нему во двор мячик – тот кричит благим матом, ругает ребят. Насыпет под забор палисадника золы, чтобы те, когда станут играть в прятки, непременно испачкались. А ребятишек возле этого двора было много, особенно летом, когда из города приезжали дочери с детьми. У одной двое да у другой четверо. Выйдут гулять, прибегут еще соседские, а баба Поля напечет пирожков или пряников, вынесет, угощает детей. Так с утра до вечера возле двора шум, гомон, игры, детский смех. Деда это только раздражало. Вечером, только куры сядут, загоняет своих внуков с улицы. Вечер еще в полном разгаре, но чтоб домой – и ворота закрыть на засов, и собаку выпустить! Дочери не противились воле отца, понимали, что будет только хуже, да сильно и не расстраивались, потому что пока такую ораву накормишь, перемоешь, молоком напоишь да перед сном сказку почитаешь, так и ночь придет.
Но самым большим испытанием для всех было то, с какой неприязнью, неохотой и, бывало, даже гневом относился дед к тому, что надо было время от времени съездить в храм, свозить детей на Причастие. С вечера у матери и у дочери с детьми начиналась подготовка – помолиться, прочитать каноны да последование. Дети слушали, а дед сычом смотрел, старался, как только получится, помешать, то на кухне что-то разольет, то на улице чем-то громыхнет. А деваться было некуда, в одну машину все не влезали, вот и приходилось везти на двух, вместе с зятем. В храм дед не заходил. Немного постоит у дверей и – на улицу. Ругал дочь за то, что сама заблуждается и детей за собой тащит, да ладно б своих, еще и сестры. Не нравилось, когда та постилась, так что ей приходилось кушать и готовить отдельно, чтобы никого не смущать. Но имя Господа часто упоминал, в определенном смысле…
Дед Афанасий – коренастый, плотный, невысокого роста, но сильный, несмотря на возраст. Баба Полина – тоже невысокая, бывшая раньше первой красавицей на деревне, добрая, богомольная. Постоянное нахождение ее в состоянии ожидания какого-то нового замечания или упрека со стороны деда измотало ее, давление шалило, порой нестерпимо болела голова, мучили суставы. Однако приходилось выходить на огород, тащить хозяйство, вытаскивать мешками летом из подвала прошлогодний урожай. Раздать людям что-то было нельзя, так и кочевало все в навоз. А на следующий год вновь засаживался весь огород, чтобы вновь все загружать в подвал, а летом выносить оттуда. А ведь могли бы уж если не раздать, то хотя бы продать или с кем-то обменяться, но нет. Дед не позволял вынести из дома ничего. Со временем и дочери перестали брать мешками картошку да лук, возьмут по пакетику, так, чтоб мать не обидеть. А все потому, что сталкивались при выходе из подвала с суровым взглядом отца, который говорил о том, что они-де в городе прохлаждались, а он вкалывал, а им бы вот только сумки набрать. Такие речи неоднократно произносились и вслух. И как ни старались женщины в этой семье смиряться, терпеть, все же не избежать было слез и переживаний. Дочерям было жалко мать, матери – дочерей, а сделать ничего было нельзя. Вот и плакали, молились, терпели.
Наступила осень. Дети с внуками уехали, закрылась бабушкина отдушина, снова оставаться ей с дедом один на один, с его недовольством всем вокруг, с его авторитарностью, с бесконечной неудовлетворенностью и обвинением окружающих. Огороды убрали и стали межевать участок. Заспорил дед с соседкой, кто кого перегорланит. Пришел домой, злится, мечет все что под руку попадется, миску с борщом опрокинул, на бабу накричал. Целый день взад-вперед по двору ходил, за что ни возьмется – все из рук валится, злость сосредоточиться не дает. Так и вечер настал. Пригнали овец и коз. Дверь, как обычно, на засов заперли. Взял дед собаку и, пока баба коз доит, пошел пройтись до луга. Идет, смотрит – человек на меже стоит. Старик какой-то. С палкой, одежда какая-то, такой сейчас и не носят. «Приблудный какой-то», подумал дед, крикнул собаку, а та убежала, не отзывается. Смеркалось. Жутковато стало, хоть и чего бояться у себя же на огороде. Дед направился к человеку, пошел по пашне, да споткнулся, упал, а когда поднялся, человека не было. Вернулся домой, и собака тут прибежала. Выпил дед, перенервничал, надо было стресс снять. Подобрел, повеселел, в дом зашел, а баба все в святом углу на иконы глядит. Увидела деда – пошла ужин ему накрывать, молока наливать. А он поел, попил, включил телевизор, лег на диван и весь вечер про политику смотрел, да еще и на всю громкость, не дослышал же уже. У бабы голова разболелась пуще прежнего, всю ночь она промучалась, а утром опять подъем в пять. Невмоготу бабе уже такое хозяйство держать, но жаловаться нельзя, дед поедом заест. Вот погнали овец на пастбище, пока еще трава вся не высохла, идут через луг по высокой осоке, баба голову вниз наклонила да все молитвы шепчет, а дед кричит, возмущается – то пошла не туда, то медленно идет. Вечером отправился дед за овцами, а было их там вместе с козами около двадцати голов, глядь, а там идет одна коза да баран с одной овечкой, той, у которой ягнятки маленькие, а больше нет. Да не сами идут, а старик тот, что на меже был, их палочкой тихонько так подгоняет. Стал дед кричать: «Ах, вот зачем ты, старый пень, приходил, стадо мое высматривал, овец моих тебе захотелось, ишь ты, куда стадо дел?» Дед вне себя кричал, слюной брызгал, зашел в осоку, оттуда только голову старика видно. А потом и та исчезла, овцы с козой тоже куда-то делись. Бродил по лугу дед до темноты, пришел домой, а овцы все как ни в чем не бывало в стойле стоят, козы уж подоены. Зашел в дом злой, опять выпил, снова на диван перед телевизором улегся. Уснул. Ночью слышит баба – кричит дед, приглушенно так, но видно, что-то его сильно напугало. Давай деда будить. Тот вскочил, говорит, приснилось, будто овец украли!
Наутро, не долго думая, дед забил двух баранов. На одного флягу меда выменял, другого разделали, в морозилку сложили, на шашлыки, когда дети приедут. Баба удивилась. Давно он не был настолько щедрым. Но удивление длилось недолго, тут ждало новое огорчение.
Поспевал виноград. В этом году был большой урожай. Баба и компоты закрыла, банки кончились, а выкидывать, как всегда, жаль. Решил дед завести самогон. Поставил брагу на винограде, все чин по чину, собрал аппарат, процесс пошел. Вдруг взрыв. Сгорел аппарат, ничего не вышло, починке не подлежит. У соседки попросить теперь невозможно – из-за межи поругались, гордость не позволяет. Так и перекисла брага, пришлось ее выливать. Баба испугалась, а дед рвал и метал, возмущался, ругался. И без самогона остался, и без аппарата!
Пришла зима. Нужно было постоянно включать газ, поддерживать тепло в доме. Ждали внуков на праздники. Баба радовалась, наконец-то она отдохнет душой, а дед ворчал, то и дело газ отключал, экономил, а то потом же, когда дети приедут, надо на полную мощность ставить… Перепада температур одна труба не выдержала, лопнула, нужно было менять, благо, что не было сильных морозов. Сэкономил в одном – переплатил в другом. Разгневался дед. Баба молилась день и ночь: только бы обошлось, только бы дети от этих его выпадов не пострадали. На коленях молилась перед иконами, а их всего три, Спаситель, Богородица да Николай-угодник. Но не обошлось. Не стерпел дед, совсем потерялся, стал бабу из дому гнать. Говорил ей, что она ничего не делает – и жена никчемная, и больная, и готовит плохо, и не нужна никому, а он один только работает, все на нем держится. Баба-то испугалась, только успела перекреститься – и упала. А дед не унимается, кричит: «Что ты тут спектакли устраиваешь, артистка, погляди-ка!» Да видит, что-то не то. Подошел к бабе, а та не дышит уже.
Стали бабу хоронить. Сел дед в машину возле гроба. Дочки плачут, кума причитает, а дед сидит молча, смотрит – а у изголовья у бабы опять старик этот сидит. Пока ехали, дед его рассмотрел – седой, с бородой, с палочкой, одежды старинные какие-то. Сидит старик, на деда смотрит, головой качает и вроде молчит, но слышит дед будто: «Предупреждал же тебя, предупреждал!».
Закончились поминки, разъехались дети и родственники, остался дед один. Некому готовить, коз доить, в доме убирать, стирать, скотину кормить, в огороде возиться, да много чего. Ходит дед из стороны в сторону из комнаты в комнату. На святой угол набрел, на иконы взглянул, которым баба молилась. Ба, да вот же тот старик! Дед так и сел. Как будто перевернулось все внутри него. Сколько сидел, не помнит, долго, да только делать нечего, надо двигаться, надо жить дальше. Но что бы он не делал теперь – старик из головы не шел, стоял перед глазами да головой качал.
Вечером подошел дед к иконам, стал креститься, а как молиться-то, и не знал, креста даже не имел. Но старик все не отставал, то в подвале встретит, вроде как картошку перебирает, то уток на речке стережет, все он рядом. Наваждение какое-то.
Так прошла зима, наступила весна. Понадобилось в райцентр ехать, в магазин. Едет дед, видит – его останавливает кто-то. Человек лет примерно сорока, незнакомый. Дед взялся его подвезти. Звали нового знакомого Константин, точнее, отец Константин. Оказалось, его прислали в храм райцентра служить, пока их священник будет в отъезде. Сам Константин был родом из этих мест. Одет он был в светское – ехал издалека, с Валаама, а облачение для храма ему обещали подготовить на месте. Говорил он охотно, просто. Распрощались они у ворот храма. Деду в душу новый батюшка запал: лицо у него было какое-то светлое, родное, что ли…
Дед заехал на рынок, купил машинное масло, кое-что из продуктов, и поехал обратно. Едет мимо храма. Видит – Константин с отцом Евгением разговаривает, и вроде как прощаются уже. И идет он прямо деду навстречу. Затормозил дед, вышел из машины. А Константин и спрашивает – не знает ли дед, где ему можно на квартиру стать. У деда слова сами с языка и слетели:
– А давай ко мне, я один, вот поживешь, а потом, может, и останешься у нас.
Сам не понял, как сказал, но на том и порешили. В первый же день всю ночь проговорили, не заметили, как и утро пришло. Только Константин еще успел вечером и утром помолиться перед бабкиными иконами, а как рассвело – уехал в райцентр на службу на автобусе. Вечером поехал за ним дед. И так приятно деду стало отчего-то, он и в храм зашел, и к иконам подошел. Константин вышел в рясе, так что дед и не узнал его сразу.
Дома он рассказал, что службы тут только в праздничные и выходные дни, а треб не очень много, да и ему, как незнакомому, может, еще не все доверять будут. А значит, он может помогать деду по хозяйству. Константин оказался очень работящим и сильным, не боялся никакой работы. Надо было огород к посадке готовить, погреб чистить, крышу латать – за все брался Константин. Только удивлялся – какое большое хозяйство у деда. Однажды не удержался, спросил: «Для чего столько? Детям помогаете?» В этот момент почувствовал дед, как в нем опять просыпается злоба – «Не успел приехать, а уже указывает!» Тут же перед глазами появился старик – вздохнул, закачал головой. Дед так и не нашелся, что ответить Константину: неужто сказать правду, что все ему мало, что он жадный до беспамятства – стыдно же…
Константин рассказал деду, что жил в монастыре – там он и научился вести хозяйство. Постриг принять хотел, но игумен не благословил пока, сказал, что он дело какое-то свое не выполнил, вот и вернулся в родные края. Хозяйство у деда потихоньку наладилось: отремонтировали времянку, все устроили к летнему приезду детей, чтобы дед мог спокойно уйти туда и никому бы не мешал.
Шел Великий пост, Константин постился – и дед с ним, и голода не чувствовал, чего все время боялся. За этот месяц дед даже ни разу телевизор не включил. Некогда было, то дела, то разговоры. Узнал много дед такого, о чем раньше и подумать не мог. Константин не навязывался ему, только отвечал на вопросы, рассказывал жития святых, притчи. Иногда читал что-то из Евангелия, но только то, что деду могло быть понятно. Объяснял толково так, спокойно. Теперь-то деду не нужны были доказательства, сам своими глазами видел, однако были сомнения, отсюда и вопросы. Все хотел Константину про старика рассказать, да боялся.
Дочери звонили и явно радовались тому, что дед не один. Близились майские праздники, и они вместе собирались приехать, навестить деда, помочь посадить картошку.
Приехали. Константина не было, он уехал в храм, после Пасхи ездил уже каждый день, люди просили. Вечером дед обыкновенно собрался за ним в райцентр. Старшая дочь напросилась с ним. Исповедоваться бы надо было, тем более теперь знакомый священник есть.
Константин согласился, женщина исповедалась, на исповеди искренне рассказала о своих чувствах к отцу, о том, что его винила в смерти мамы, о том, сколько они вместе претерпели. Просила прощения у Господа за свою слабость. Сквозь слезы после исповеди посмотрела на Константина… и узнала его. Ничего не стала говорить никому, пока они не приехали домой. Женщина даже не знала, как начать разговор, что сказать, так и уехали, не поговорив… Она только с сестрой поделилась своими догадками, но они решили подождать до лета, тут же недолго осталось, а там как Бог даст.
Закончились посадочные работы, отзвенел май, пришло лето. Отец Евгений вернулся из командировки, а Константин стал готовиться к отъезду. Отец Евгений попросил, чтобы далеко его не отправляли от этих мест, так как подходило к концу строительство нового храма в одном их ближайших сел, и хорошо бы, чтобы туда приехал служить Константин, людям он понравился, и они тоже ждали его возвращения. Поэтому пока Константин отправился в монастырь, который находился недалеко от села.
Теперь деду было легко управляться с хозяйством. Константин предложил ему размежевать огород так, чтобы остался только наиболее плодородный участок. Остальное засадили хорошей травой, которую потом можно было продать. Со скотом тоже управился Константин грамотно: часть животных продали, а на вырученные деньги купили мотоблок, косилку, чтобы было легче огород обрабатывать. Из сломанного самогонного аппарата Константин соорудил автоклав: они с дедом наварили тушенки, а оставшееся мясо заморозили. Остались у деда одна коза да овца с бараном, куры да кошка с собакой. В подвале тоже теперь был порядок: все по полкам расставлено, для хранения овощей тоже отделы оборудованы. А еще Константин устроил широкую трубу прямо в подвал: насыпаешь овощи в специальное отверстие, а они по жерлу сами направляются в нужный отсек, и мешков таскать самому не нужно! Все предусмотрел Константин, дед Афанасий нарадоваться не мог, как это удобно. Но однако же тоскливо было ему одному. Бабу часто вспоминал, понимал, что был неправ, вел себя с ней нехорошо. Да и с дочерьми тоже. Чувствовал постоянно потребность в общении. Особенно по вечерам, подойдет, смотрит на Николая Угодника и говорит: «Вот и ты про меня забыл теперь, когда мне очень нужна помощь!» Константин выучил с ним несколько молитв, и дед их каждый день повторял. Но легче не становилось, душа болела, на части рвалась. Скоро дети приедут, радоваться бы, а у него страх какой-то, стыд. Нужно бы прощения попросить, но как, нелегко было переступить через себя, и Константина рядом не было.
Приехали дочки с ребятишками, с зятьями. Дед вышел встречать, но почувствовал себя не совсем хорошо, сердце будто сжалось. Так прошло несколько дней. Женщины трудились по хозяйству, мужчины заготовили сено, поставили забор, машину дедову подремонтировали. Ему бы радоваться, а ему плохо… Просит старшую дочь позвонить Константину, позвать его, вроде как чувствует дед, что смерть скоро, хочет на исповедь, а в райцентр ехать уж не может.
Константин не заставил себя ждать, явился тем же вечером.
После ужина старшая дочь деда Афанасия не выдержала и рассказала такую историю.
Константин был тремя-четырьмя годами младше ее. Учился в их школе лет пять, потом они переехали. Жили они в бараках возле школы, их потом снесли. Мать у него была учительницей. Тогда ей, старшей дочери деда Афанасия, было уже примерно 14 лет, и она услышала разговоры о том, что этот мальчик – сын ее отца. Действительно, когда она была совсем маленькой, у отца с матерью произошел разлад, и мама забрала дочь в город. Они жили там некоторое время. А в это время у отца здесь случился роман, женщина забеременела, родила мальчика, но никогда ни на что не претендовала. Однако сплетни по селу пошли, и эта весть дошла до четырнадцатилетней девочки. Мальчик и тогда, и сейчас был очень похож на деда Афанасия, своего отца. Тогда, давно, дед Афанасий всячески отрицал этот факт. Теперь же, по прошествии стольких лет, ей было странно, что он так ничего и не понял. Она говорила уверенно, нашла фотографии деда Афанасия в возрасте 40 лет, и действительно – сходство поразительное, никакой ДНК-анализ не нужен.
Дед Афанасий заплакал. А Константин ничего этого не знал, тогда ему было не до этих сплетен – мал еще, а после мать никогда не говорила с ним об отце, даже когда была уже смертельно больна.
 Признался дед Афанасий, что был такой случай, что много лет он и не думал, и не вспоминал о своем сыне. Никто не мог на сто процентов подтвердить, был ли Константин его сыном, но принял он его именно так. Дочери узнали эту историю от матери, но всегда молчали, не осуждали отца. Они всегда хотели найти своего брата, познакомиться с ним – и Господь послал им такой шанс.
Признался дед Афанасий, что был такой случай, что много лет он и не думал, и не вспоминал о своем сыне. Никто не мог на сто процентов подтвердить, был ли Константин его сыном, но принял он его именно так. Дочери узнали эту историю от матери, но всегда молчали, не осуждали отца. Они всегда хотели найти своего брата, познакомиться с ним – и Господь послал им такой шанс.
Константин был удивлен и вместе с тем очень рад обретению такой большой семьи. Деда-то он знал только с хорошей стороны, поэтому его просьбу о прощении принял с благодарностью и со слезами на глазах. Конечно, он простил. И после этого вечера, когда он вернулся в монастырь, игумен сам подошел к нему и сказал: «Готовься к постригу, Константин. Теперь ты готов, тебе есть за кого молиться!»
А в деревне в тот день умер дед Афанасий. Он ушел тихо, во сне, в котором ему снилось, что идет он навстречу седому старику, а тот улыбается ему сквозь седую бороду.
Марина Чепелева