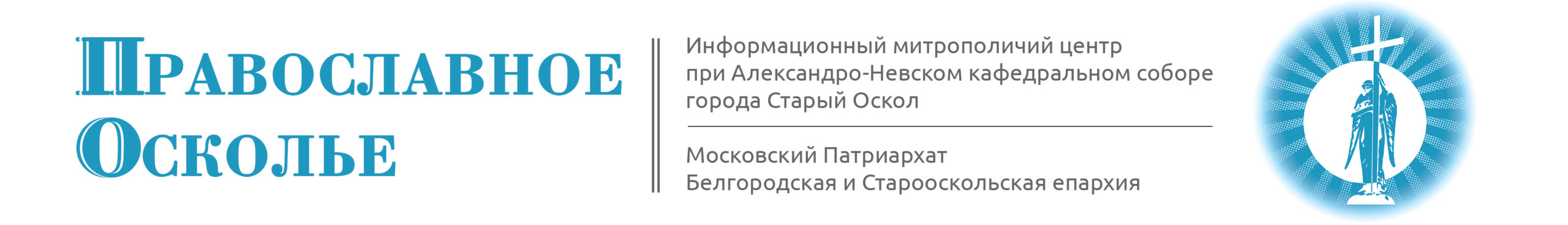«Помни, враг подслушивает!»
 Константин, телефонист 13-й гвардейской стрелковой дивизии, сгорбившись, сидел на табурете. Эта ночь не давала покоя. А ведь так хотелось вздремнуть! За последние сутки он исправил двадцать два повреждения линии связи, и до сих пор ему не удалось сомкнуть глаз. Двадцать два выхода.
Константин, телефонист 13-й гвардейской стрелковой дивизии, сгорбившись, сидел на табурете. Эта ночь не давала покоя. А ведь так хотелось вздремнуть! За последние сутки он исправил двадцать два повреждения линии связи, и до сих пор ему не удалось сомкнуть глаз. Двадцать два выхода.
Двадцать две возможности не вернуться. Но каждый раз судьба приводила его обратно к сослуживцам, к суматохе и приятному огню буржуйки.
Глаза слипались. Никто в блиндаже не спал. Вялой рукой он ударил себя по щекам и уставился на окружающих: Ваня, маленький и жилистый парень, сидел в углу и наматывал портянки на раненую ногу, бородатый суровый Степан разговаривал с Беком, смуглым татарином, о его родном ауле, а Миша сосредоточенно сидел у телефонного аппарата, сегодня была его очередь передавать сообщения к 42-й ГСП. С крышки полевого телефона отблескивала железная пластина «Помни, враг подслушивает», ставшая настолько знакомой за многие годы, что маячила даже во сне. То и дело слышался голос напарника: «Повторяю, прием, наша позиция», и уже по привычке в такие моменты ныли пальцы, зажимавшие разговорный клапан. «Прием», «слушаю», «так точно», «повторяю» – Константину казалось, что весь он состоит лишь из этих слов: они плыли по его венам, пронизывали его тело насквозь. И каждая капля крови в сосудах словно твердила ему: «Помни, враг подслушивает! Помни, враг подслушивает! Помни, враг…».
Это было невыносимо. Чтобы хоть как-то отвлечься, он достал свою сумку и начал перебирать инструменты, распихивая по кармашкам буравчик с ручкой, прорезиненную ленту, острогубцы, проволочную отвертку, плоскогубцы, кипы бланков для телеграмм, черные карандаши, телефонный стержень для заземления, резиновый клей, перочинный нож и ключ для разборки телефонной катушки. Сама катушка Константина лежала рядом, накрытая брезентом. Это был его вечный груз, груз ответственности за жизни десятков и сотен солдат.
– Михеев, 13-я гвардейская стрелковая дивизия, да, противник… – Миша упорно твердил какие-то отчеты о позициях, передислокации, количестве людей и тому подобное. – Повторите! Повторите! – Его хрупкая спина так сильно наклонилась, что, казалось, еще немного, и он уляжется на стол.
– Так вот, Бек, знаешь, я откуда? А я из Крупянки, с Омской области. Слыхал о такой? А у меня там жена, дети, дом там у меня, понимаешь? Понимаешь, о чем я говорю? Дом! Дом там у меня!
– Анладым. По-ни-маю.
Что нужно красноармейцу для счастья? Дом – три буквы, одно слово, а сколько радости и теплых воспоминаний! Губы Константина беззвучно шептали по привычке, как в документах: «Казахская ССР, Семипалатинская область, Ново-Шульбинский район, село Жерновка». И таких, как он, было много. Шагаешь в окопе, в строю, едешь ли в грузовике – все шумят, галдят, общаются, но вдруг некоторые застынут, словно мелькнет что-то перед глазами, обрушится пред ними неведомая пелена, и начинают шептать адреса, как умалишенные. И смотрели на таких по-разному: кто с пониманием и сочувствием, кто с усмешкой – это, как правило, были детдомовские. Но большинство просто отворачивалось. Им было неловко смотреть на товарищей в такие минуты.
Вывел Константина из такого же оцепенения его напарник.
– Прием, слышите, говорит… Снова порыв, Костя! Костя, очнись!
Дверь отворилась, и вошел командир дивизии – Николай Матвеевич Соловей, строгий мужчина лет сорока, с высоким лбом и крупным, вытянутым вперед носом. Две продольные морщины рассекали его лицо от ноздрей до кончиков губ, а светло-русые волосы были настолько жесткими, что покрывали череп равномерным слоем. Невозможно было выделить даже одной своевольной пряди. Складывалось ощущение, что не только солдаты, но и шевелюра под его начальством четко понимала слово «дисциплина».
– Связи нет – значит, давайте мигом обслуживать! – зазвучал прокуренный голос капитана, – до утра ждать нельзя! Только налет пережили, кто знает, может, не последний за эту ночь. Костя, вперед! Еще один твой выход, потом отдохнешь и сменишь Мишу. Бегом, бегом!
И Константин, схватив свою сумку, нырнул в распахнутую темноту.
В такое время меньше всего думалось о войне: вспоминался дом, тишь ночного поля, тюки с сеном, веселые шутки и мечтательные, с легкой ноткой грусти, песни товарищей…
В комнате страны Советов темно. И вот простой тракторист в колхозе, сельский парень, баянист и душа компании, царапает руками зыбкую пустоту, и каждый шаг утягивает в болото, сгущая черные краски… Все родное и привычное осталось там, за тяжелыми и скрипящими ставнями июня 41-го года. Когда же их откроют?
Константин нащупал в кустах спрятанный провод, осталось найти место порыва. Сколько километров придется ему пройти? В уставших за двадцать два выхода ногах мерно перекатывалась тупая, ноющая боль, так хотелось просто лечь на траву, отбросить тяжелую катушку и уснуть. Уснуть. Забыться. Исчезнуть. Что угодно, лишь бы не видеть этой истощающей, изломанной судьбы человечества.
И в памяти всплывали детские игры в красноармейцев, когда ватага мальчишек хватала длинные с обветшавшей корой палки, ломала ветки, чтобы они стали похожими на небольшие подобия пистолетов. И мчался он с товарищами вечерами по пыльной улице, махал деревянной «шашкой», пел простенькие песни и неистово свистел.
Война идеализировалась. Война воспринималась как веселое приключение, задорная игра и взрослая авантюра. Ведь что страшного в том, чтобы тыкнуть палкой вон в того мальчика, с костлявой грудью, пышными бровями и шрамом на щеке? Или вот, идет девочка в синем платьице с едва заметной заплаткой, как забавно внезапно выскочить из кустов и крикнуть пулеметное «тра-та-та-та»?
Так было после войны с немцами в 1914 году, так было после войны с белогвардейцами. И с чувством знобящего ужаса Константин понял: и после этой войны все будет как прежде. Уже другие мальчишки будут, сами того не понимая, «рубить» с локтя «немцев», «белых» и иже с ними. И главное – смяться, смеяться, смеяться! Дружным хохотом зальется каждая улица страны, и красные веселые песни потекут, сплетаясь с детским улюлюканьем! И, быть может, сверху на этот беспредел будет смотреть Бог, удивляясь пусть и веселой, детской, но все же жестокости, которую им привило время.
Константин нырнул на дно воронки, оставленной после какого-то снаряда, руки впервые за долгое время дрожали. Он устал. В жизни каждого наступает такой момент, когда становится невыносимо волочить свою ношу. И дело вовсе не в тяжелой катушке на спине. Если бы человеку приходилось тащить только моток проводов – он был бы неимоверно счастлив…
 Его взгляд устремился ввысь. Могильная луна освещала темные облачные массивы, бороздившие усталое от гула самолетов небо. Константин вдохнул полной грудью: прохладный воздух сырой земли приятно щекотал ноздри. Где-то вдалеке слышался голос ночных птиц, он заметил это только сейчас. А вдруг… он видит это последний раз? Двадцать третий выход за сегодня. Двадцать третья возможность не вернуться.
Его взгляд устремился ввысь. Могильная луна освещала темные облачные массивы, бороздившие усталое от гула самолетов небо. Константин вдохнул полной грудью: прохладный воздух сырой земли приятно щекотал ноздри. Где-то вдалеке слышался голос ночных птиц, он заметил это только сейчас. А вдруг… он видит это последний раз? Двадцать третий выход за сегодня. Двадцать третья возможность не вернуться.
Дрожь прошла, нужно идти дальше, искать разрыв…
– Leiser!’
Лезвие грубой немецкой речи и тяжелых шагов разорвало сумрачное спокойствие. Все стало враждебным: яркая луна, срывающая спасительную тень, словно кожу, запах земли, от которого хочется чихнуть… Константин вжался грудью в воронку с такой силой, словно хотел срастись с израненной землей, и каждый звук в этот миг стал жизнеопределяющим. Он осторожно выглянул, приметил у кабеля двух немцев и юркнул назад.
Видел ли он их лица? Нет. В такие моменты не приходит и мысли рассмотреть противника.
Люди ли они? Да. Но сейчас это не имеет значения. Секунда пустоты. Секунда замирания сердца.
«Раз».
Взгляд на небо.
«Два».
Пальцы окаменели.
«Три».
Выстрел.
––––––––––––––––––––––––––––––
‘Тише.
Глеб Кривошеев